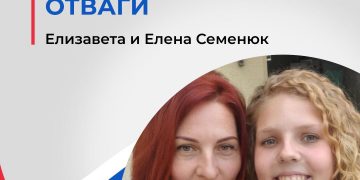Возвращаемся к нашей краеведческой рубрике, посвященной 150-летнему юбилею Донецка. В прошлый раз мы, если помните, отправились прогуляться по улице Кирова, самой длинной в столице ДНР (19,5 км). Остановились передохнуть – как витязь на распутье – у Мариупольской развилки. Продолжаем путь!
Трогаем!
Тем, кто присоединился к нам только сейчас, сообщу, что «Донецкое время» в своих историко-географических экскурсиях пользуется помощью профессионалов. В прогулке по улице Кирова нас сопровождает старший научный сотрудник научно-методического отдела охраны памятников истории и культуры Донецкого республиканского краеведческого музея Алексей Геннадиевич Матченко, за что мы его еще раз благодарим.
Итак, земляки, набираем в грудные клетки побольше воздуха – нам снова предстоит восхождение. Конечно, в этот раз подъем не столь крутой, как в начале пути, но тоже ощутимый. Бросаем мимолетный взгляд вправо – на северо-запад уходит русло уже знакомой нам Дурной речки (вернее, оттуда оно приходит, устремляясь к Кальмиусу, оставленному нами позади).
По правую же руку видим террикон шахты № 31. Опять вспоминается Драйзер, о котором я в прошлый раз обещал поговорить… Обязательно потолкуем, но немного погодя – визит американского писателя был для нашего города громким событием, не хочется о нем в двух словах.
 Гигант «легонькой промышленности»
Гигант «легонькой промышленности»
Продолжаем путь. Перед нами комплекс бывшей фабрики игрушек… Вот здесь нельзя не остановиться. Ностальгия и гордость переполняют. Привыкли мы, что Донбасс – край тяжелой промышленности, а ведь не только. Вот, например, игрушки – продукт легкий, зачастую даже мягкий, а каково производство! Донецкая фабрика, созданная в 1973 году на радость детям всей страны Советов, была промышленным гигантом, крупнейшим в своей сфере на просторах Союза и всей Европы.
Не раз приходилось слышать, что, мол, советский легкопром (в отличие от западного) рождал продукцию сплошь аляповатую, неизящную. Оттого, дескать, и мечтали наши люди о заграничных одежках, игрушках и прочих бытовых нуждах, что собственный ширпотреб глаз не радовал. Спорить не стану, противно. Огульное оплевывание своего прошлого – такой же распространенный недостаток, как, например, зависть к соседу или тяга стащить то, что плохо положили.
Об одежде не сейчас, а вот игрушки в Союзе делали отличные. И главное – практически вечные! Вопрос: многие ли из своих цацек сумеет передать в наследство младшему брату нынешний ребенок? Увы. Сегодняшние игрушки в подавляющей массе не жизнеспособны: материал хрупкий, починке не подлежащий. Словно не на детей рассчитан этот товар, а на взрослых дядь и теть, и не для игры делается, а для того, чтобы на полке пылиться.
Советские игрушки полностью отвечали своему предназначению: были «неубиваемыми» и вполне приличными эстетически. Если уж вспоминать о Западе, то, например, донецкие солдатики изготавливались по формам, купленным у американского фабриканта Луиса Маркса (происхождение – не из крестьян, но фамилия подходящая).
Если бы этот очерк писала представительница прекрасного пола, она бы, верно, вспомнила о пупсах и кукольных колясках. Я же – о солдатиках. Это были шедевры игрушечной промышленности. Они были исполнены динамично, не тонули (что же это за солдат, который  плавает, как топор!) и были очень гибкими, практически не ломались. Терялись, правда, часто, но купить новых не составляло труда (по крайней мере, у нас в Донбассе). И стоили недорого: набор маленьких, 6-сантиметровых, – 50 копеек, а больших, 15-сантиметровых, – полтора рубля.
плавает, как топор!) и были очень гибкими, практически не ломались. Терялись, правда, часто, но купить новых не составляло труда (по крайней мере, у нас в Донбассе). И стоили недорого: набор маленьких, 6-сантиметровых, – 50 копеек, а больших, 15-сантиметровых, – полтора рубля.
Кстати, ежегодный тираж солдатиков каждого вида составлял 150–275 тысяч наборов. То есть за все годы работы Донецкой фабрики игрушек там отлили более 200 миллионов фигурок!
Впрочем, не одними воинами славилась наша ДФИ. Здесь выпускалось до 950 наименований продукции. На фабрике были свои художники и технологи, конструкторское бюро и лаборатория. Прежде чем любая игрушка попадала на прилавок, ее не меньше полугода проверяли: не токсична ли, не остра ли; оценивали, какие эмоции она может вызвать у ребенка.
В лучшие годы здесь трудилось до 5 тысяч человек, представлявших 60 профессий! При фабрике была даже своя оранжерея – всех юбиляров и передовиков поздравляли собственными цветами. В подшефном хозяйстве выращивали овощи для своей столовой, чтобы рабочих витаминизировать…
И все это в 1994 году лопнуло огромным мыльным пузырем. Не по силам стало украинскому Донецку такое хозяйство. Некоторое время здание фабрики пустовало, потом в нем помещался рынок «Дружба» (ущербный в силу своего неудобного расположения). Теперь здесь живет только наша память…
Кто чем мог
 С печалью продолжаем наш путь.
С печалью продолжаем наш путь.
Улица Кирова углубляется в Рутченковку, о которой мы говорили в прошлый раз. У площади Свободы объект нашего внимания делает первый существенный вираж. По левую руку остается величественный памятник «Борцам за советскую власть», и хотя он сейчас повернут к нам тылом, обойти его интересом мы не можем.
Композиция из двух кряжистых рабочих, вершащих дело революции, была установлена здесь в 1967 году, к полувековому юбилею Великого Октября. Почему именно здесь высится эта гордая пара? История указывает, что рабочие Рутченковки были первыми из наших трудяг, кто откликнулся на революцию. Они собрали крупный отряд, вооружились кто чем мог (это и на памятнике отражено) и отправились в Юзовку – выразить свою солидарность с местными большевиками, а также проследить, чтобы власть была передана Совету рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Кстати, символичным видится то, что фигуры рабочих свирепо глядят именно на запад – их каменные ноздри уже тогда чуяли тлетворный дух истинного врага.
Но оставляем наших борцов в покое и движемся дальше. Небольшой рывок, поворот влево, затем вправо (мимо спорткомплекса «Кировец»)… Впрочем, прежде чем двинуть дальше, в край сверхглубоких шахт, остановимся и обернемся. Дворец культуры имени Франко, что у нас за спиной, стоит и внимания, и почтения.
 Феникс культуры
Феникс культуры
Самый старый ДК в городе. Закладка первого камня была произведена 22 июля 1925 года. Точную дату открытия найти не удалось, но, вероятно, это произошло через пару лет, не позже, потому что в декабре 1927-го дворцом восторгался путешествующий по Советской России Драйзер. «Я поражен тем, какие у вас великолепные клубы имеют трудящиеся. Ваш рабочий клуб на Рутченково – это нечто необыкновенное, это настоящий очаг культуры. Во всем мире нет того, что есть у вас», – такую вот звонкую пулю вылил нам американец. Хотя, может, и не лукавил…
Дворец труда им. Интернационала (так первоначально назывался ДК им. Франко) действительно заслуживал лестных слов американского писателя. На фоне одноэтажного окружения дом высился мощным атлетом среди золотушных беспризорников. Строительство этого красавца обошлось стране рабочих и крестьян в копеечку – более 700 тысяч рублей в смете. Чтобы это число было более осязаемым, отметим, что килограмм пшеничной муки стоил в 1927 году 10 копеек, а ржаной – и вовсе 6.
Правда, ДК, который мы с вами видим сейчас, не совсем тот, что поразил Драйзера. Нынешний – это феникс, восставший из пепла в 1956 году. В начале Великой Отечественной войны здание служило местом расположения штаба 696-го стрелкового полка знаменитой 383-й Шахтерской стрелковой дивизии; во время оккупации здесь, вероятно, квартировали фрицы (еще бы они такие апартаменты проигнорировали!); а в 1943-м, отступая, «коричневые» разрушили ДК. Плюс, как ни прискорбно об этом упоминать, здание горело еще раз уже после его освобождения. В общем, сохранность дворца к концу войны составляла лишь 20 %.
За восстановление взялись в 1953-м, и за три года дворец стал еще более величественным и современным. Кстати, на Молодежной площади перед ДК планировался фонтан, но его сочли архитектурным излишеством и «зарезали».
Виноват, конечно, немец
От ДК им. Франко не хочется уходить. Его могучая фигура, окруженная молчаливым безлюдьем Дворцового парка и Молодежной площади, умиротворяет. Правда, ветрено здесь, но в этом тоже есть что-то царственное, питерское.
Обойдем дворец кругом. Недалеко от его юго-восточного угла видим три памятника: два скромных, а один – настоящее произведение искусства. Фигура горняка, склонившегося над отбойником, за его спиной – кулисы угольного пласта. Надпись на постаменте: «Памяти  погибших рабочих при взрыве динамита на проходке № 17 Рутченковского рудника».
погибших рабочих при взрыве динамита на проходке № 17 Рутченковского рудника».
Снимем головные уборы и помолчим. Это не просто символическая скульптура, а братская могила. На этом месте похоронены 12 шахтеров, погибших 7 февраля 1928 года на шахте № 17/17-бис. 9 фамилий удалось установить – они увековечены на памятнике.
Темна эта трагическая история, покрыта завесой времени и ретушью официальной печати. Взрыв динамита, о котором повествует памятная надпись, случился даже не в забое, а на поверхности, в помещении шахтной управы. За неимением абсолютно достоверных сведений сошлемся на публикацию в журнале «Красная панорама», обнаруженную донецким краеведом Валерием Степкиным в подшивках старой прессы.
Итак, причиной взрыва послужили три ящика динамита, которые принес в контору со склада штейгер, немец по происхождению. Дело было в феврале, ящики промерзли и не открывались. И немец якобы взялся молотком отбивать крышку. Заведующий, войдя при этом в помещение, ужаснулся: «Что вы делаете, так ведь нельзя!» «Штейгер обругал заведующего и продолжал свое дело, – цитируем «Красную панораму». – Через десять минут после этого разговора раздался оглушительный взрыв, от которого в воздух взлетели контора, баня и раздевальня, находящиеся в одном помещении».
Конечно, чувствуется в этой истории некоторая фальшь. Немец, вопреки пресловутой осторожности, свойственной его нации, упрямо лупит молотком по ящику с динамитом (как-то очень уж по-русски выглядит его деяние), а бедный заведующий десять (!) минут не может убедить подчиненного, что «так ведь нельзя». Да подойди и отбери у ганса молоток! Так тот, вишь, ругается… Бесноватый, наверно.
В общем, советская печать заклеймила инородца. Халатность или вредительство, так и не дознались. Верим мы или нет, суть от этого не становится менее печальной. 12 погибших и 8 раненых.
А установка памятника, конечно, была красивым жестом. И пусть беда на шахте № 17/17-бис случилась по вине человека, а не стихии, и не под землей, а снаружи, но скромная и мужественная фигура горняка у ДК им. Франко – это высокий символ шахтерского труда, всегда опасного, априори трагического.
Горняцкое горнило
Если представить себе, что мы путешествуем в начале XX века, то сейчас наш маршрут пролегает по французской территории. В 1895 году дворяне Рутченко продали свои земли Французскому горнопромышленному обществу, и вскоре район нынешних ДК им. Франко и «Кировца» был обжит и застроен певцами «Марсельезы». Впрочем, нынче на этом месте никаких следов французского нашествия не сохранилось, а потому движемся дальше, на север.
Улица Кирова уводит нас в самое что ни на есть горняцкое горнило. Донецк, в сущности, и есть одна большая шахта, но на этом отрезке концентрация точек угледобычи особенно впечатляет.
«Лидиевка». Ей уже хорошо за 100. Еще в 90-е годы XIX века неким Отто Шеном были арендованы 500 десятин земли у местной помещицы Горбачевой. Была заложена небольшая шахта, названная «Лидией» в честь дочери Шена. Так что русское, на первый взгляд, название оказывается на поверку вовсе даже иноземным. Кстати, национальная принадлежность Шена вызывает вопросы. В разных источниках его и немцем величают, и датчанином, и бельгийцем, и французом. Лично я склоняюсь к первому варианту – Отто Шен звучит очень по-немецки. Хотя… Кого у нас только не было в эпоху освоения угля. Это прошлый век перевел мир на нефтяные рельсы, а на рубеже XIX–XX столетий уголь был всему голова, и Донбасс для алчного Запада представлялся Клондайком – как нынешний Кувейт, например. И ковыряли наш грунт кто ни попадя.
Из крошечной «Лидии» выросло огромное предприятие. В 1900 году был заложен новый ствол шахты № 2/7 «Лидиевка», а в 1904-м извлечены из недр первые тонны угля.
«Лидиевка», помимо прочего, известна еще и тем, что именно сюда в 1920-е годы прибыли первые донбасские врубовые машины. И с этой  же шахтой связана деятельность Джона (Ивана) Пинтера, знаменитого советского горняка, стахановца, прибывшего в 1922 году во главе американской коммуны строить вместе с нами светлое будущее.
же шахтой связана деятельность Джона (Ивана) Пинтера, знаменитого советского горняка, стахановца, прибывшего в 1922 году во главе американской коммуны строить вместе с нами светлое будущее.
Шахты имен Скочинского и Абакумова – две бездны на западной окраине города. Пришло время, когда легкодоступные залежи донбасского угля были исчерпаны. Возникла необходимость копать глубже. Конечно, эксперимент был сопряжен с большими рисками, но послевоенная эра восстановления требовала подвигов. В 1945 году была заложена шахта им. Абакумова, черная дыра километровой глубины.
Чуть позже эксперимент продолжили. В 1959 году спроектировали, а в 1975-м запустили шахту им. академика Скочинского. Эта яма была похлеще предыдущей – глубже 1 200 метров. Даже сейчас эта копь – одна из глубочайших в мире.
Наша улица Кирова, поначалу такая оживленная, теперь катит свою асфальтовую ленту по суровым, безлюдным местам. И вот, наконец, поселок шахты Абакумова, уютный «старичок», застроенный «сталинками» и заросший могучими тополями. Здесь время остановилось задолго до распада СССР. До недавней поры сюда можно было приехать, чтобы отвлечься от суеты хай-тека. Сядешь на ветхую лавочку, послушаешь любовные гимны горлиц – и возвращаешься в бутиково-плазовый центр освеженным.
До недавнего времени было так. Теперь – нет. Нынче здесь проходит линия разграничения. Улица Кирова упирается в блокост. Отдохнуть в прошлом уже не получается, слишком часто и очевидно напоминает о себе настоящее…
Автор Роман КАРПЕНКО, газета «Донецкое время»
Автор благодарит Министерство культуры ДНР и Донецкий республиканский краеведческий музей за содействие в подготовке материала